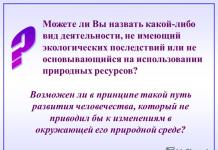Захар Прилепин
Письма с Донбасса. Всё, что должно разрешиться…
© Захар Прилепин
© ООО «Издательство АСТ»
* * *Эта книга про Донбасс и за Донбасс.
В этой книжке нет или почти нет меня: мой личный Донбасс останется за кадром.
Моя роль здесь – слушатель и наблюдатель.
Главные персонажи книги – те, кто пережил эту историю и сделал её сам.
Часть первая
Pro Донбасс
На Донбассе купола церквей – тёмные. Гораздо темнее, чем в большой России, здесь.
Тёмное золото, будто бы замешенное с углём. Едешь на машине по Донецкой народной республике – и видишь: то здесь, то там вспыхивает тёмный купол.
Очень много разрушенных православных храмов. Наверное, надо пояснить, что стреляют по ним с той стороны – артиллерия, миномёты или танки Вооружённых сил Украины.
Порой храм стоит на открытом пространстве, его видно издалека, как единственный головастый цветок на поле.
– Это не случайное попадание, – говорит мне мой спутник. – Часто осмысленно били именно в храмы.
Если быть точным: только на территории Донецкой республики разрушено во время войны семьдесят православных храмов. Пусть кто-нибудь попытается доказать, что это случайное совпадение.
Мы выехали с утра в компании главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко в кои-то веки не по делам боевым, а с мирной целью – вручить ключи от новых квартир жителям Дебальцево: там возвели 111 новых, очень симпатичных, домиков.
Неожиданно звонят на мобильный заместителю главы, с которым мы едем в его потрёпанной «Ниве». Есть информация, что по дороге может быть покушение на главу. Убить Захарченко – безусловная мечта для многих.
Информацию тут же передали главе и его начальнику охраны. Надо было отменять поездку.
Через три минуты от Захарченко передали: нет, едем. Просто сменим маршрут.
Маршрутов всегда закладывается несколько, каким именно поедет глава, не знает до последнего момента почти никто, или вообще никто – потому что за минуту до выезда сам Захарченко может принять новое решение.
В этот раз решение его – парадоксально. Мы должны были ехать в Дебальцево, делая серьёзный крюк, – чтоб держаться подальше от передовой. Но Захарченко то ли забавляется, то ли доверяет своему чутью: и мы летим по трассе, которая проходит ровно по передку.
– Вон дом видишь? – показывает мне зам главы. – Там украинские снайпера сидят. А вон их позиции… Вон в той зелёнке они тоже есть…
Но здесь нас, похоже, вообще не ждали.
На улице – солнечный декабрьский денёк, всё кажется безоблачным и мирным.
Я смотрю на купола и вспоминаю, где уже видел этот тёмный свет.
* * *Захарченко не курит только под капельницей. Когда нас познакомили – он не курил.
Раздетый по пояс, лежал на диванчике, в комнатке за своей приёмной. Рядом, за столом, сидели врач и медсестра, тихие и тактичные женщины.
Подкапывала какая-то животворящая жидкость, сразу из двух банок.
Разговаривая, Захарченко время от времени недовольно поглядывал на эти банки, ему казалось, что всё происходит слишком медленно.
Потом я заметил, что ему так кажется всегда: жизнь должна двигаться быстро – нестись с такой скоростью, чтоб трава склонялась по пути.
Наконец, его отцепили от склянок, он быстро встал и начал одеваться в свою почти неизменную «горку», которая, ничего не поделаешь, идёт ему куда больше костюма и даже парадного кителя.
«Горка» была выстиранная, опрятная, но явно поношенная.
– Ты всю войну в ней прошёл? – спросил я. Прилюдно я буду обращаться к нему на «вы»; в неофициальной обстановке на «ты».
– А по ней видно. Зашитая-перешитая, подряпаная, потёртая. Её от пота, и от крови стирали. Когда в меня пуля попала, мне распороли штанину; потом зашили. И в берцах в этих я тоже всю войну проходил. Вот заплатку на берцах поставили – наши мастера сапожники.
Последний раз Захарченко был ранен в ногу, пуля прошла над самой пяткой – он заметно прихрамывает.
«Надо же, – думаю, – оставил старые берцы».
Не очень понятно: ходить в прострелянных берцах – это суеверие, или, что ли, бравада, или ещё что-то; может, просто берцы жалко.
– Поменяешь форму?
– Конечно, одену новую.
– Когда войны не будет?
Захарченко вешает на ремень нож, он всегда с ножом, и, быстро подняв взгляд, секунду смотрит на меня:
– Войны не будет? Будет. Как начиналась Вторая мировая? Тоже с таких вот непонятных конфликтов: то Польша, то Чехословакия, то Финляндия, то ещё что-то. А тут Донбасс, тут Сирия. Давайте смотреть правде в глаза. Мы сейчас врубимся по полной программе. Уже врубились. Исходя из опыта истории пройдёт два – три года – и мы сцепимся. Всё, что должно решиться кровью и железом, оно решится кровью и железом, и больше ничем. Ты не сможешь убрать из СБУ 70 % ЦРУшников без применения силы. Ты не сможешь убрать из их Минобороны всех заезжих советников. – Захарченко затягивает ремень, и уже по дороге в свой кабинет договаривает.
Оценил книгу
Это третья книга публицистики Захара Прилепина, которую я прочитал. До его беллетристики я ещё не добрался, так как документалистика его очаровала меня с первых строк и навсегда.
Читал эту книгу три дня и дочитал сегодня. Пишу по горячим следам.
Первые сравнения, которые пришли в голову - это испанские дневники замечательного нашего публициста Михаила Кольцова. Он столь же правдиво и талантливо описывал борьбу республиканской Испании.
Ещё эта работа Прилепина напомнила мне "Десять дней, которые потрясли мир" Джона Рида. Рид в своей книжке очень здорово, неповторимо описал Октябрьскую революцию 1917 года. Описал её быт, её романтику, её непередаваемую, волшебную атмосферу. Описал так непредвзято и самобытно, что Ленин был очарован ей и рекомендовал размножить эту книгу насколько возможно.
И ещё этот сборник прилепинской документалистики, посвящённой украинским событиям 2013-2015 гг. напомнил мне фурмановского "Чапаева". Фильм "Чапаев" тоже очень хорош, но книга Фурманова - совсем иное дело. В ней показаны столь интересные события, связанные с бытом Гражданской войны 1918-1920 гг., что оторваться от чтения практически невозможно.
Прилепин - гений, живущий в наше время. Такой же гений, как Кольцов, Рид и Фурманов. И человек столь же высокого духа и великой совести.
Война на Украине, спровоцированная фашистским переворотом 2014 года, потрясла меня сразу же и очень сильно. Я смотрел множество видеоматериалов, связанных с ней. В том числе, не весьма приятную для глаз и ушей документалистику. И не смотря на это, Прилепин открыл для меня в этой книге очень много нового. И удалось ему это сделать не только потому, что он многое видел и о многом говорил с участниками событий, но и благодаря своему таланту показать факт выпукло, обнажённо и символично.
Примерно 50% текста принадлежит не автору, а его собеседникам - значительная часть книги состоит из интервью. Иногда автор даёт волю и себе - он размышляет, переживает, вспоминает, делится своими наблюдениями и суждениями.
Точно! Вот что ещё напомнила мне эта проза - очерки Аркадия Гайдара, в которых он описывает небольшие, но яркие эпизоды, виденные им на тех фронтах.
Прилепин тоже революционер (как Гайдар и Рид), тоже романтик (опять как Гайдар и Рид), и романтизм его - это романтизм действия. Перед нами не только журналист, писатель, но и солдат, который подтверждает верность своим идеям, идя за них под пули. То есть, в этой книге Прилепин не лежит в окопах, но чувствуется, что он уже неоднократно делал это и скоро вновь возьмётся за оружие.
На мой взгляд, автору удалось показать украинские события объективно, разносторонне и в то же время однозначно. Перед вами не агитка, нет, а... точки, расставленные над "i". Прочитает эту книгу человек, чьи идеалы сродни прилепинским (скажем, я), - и прыгнет в наш окоп. Прочитает эту книгу бандеровец, фашист, либерал, русофоб, - и займёт противоположную сторону. Эта книга как нельзя лучше показывает, что общего у нас с нашими врагами очень мало. Что война на Украине - это не случайные стрелялки, а война принципов, война людей, диаметрально противоположных вкусов и взглядов, война Христа с антихристом. Как в Гарри Поттере: "Никто из них не будет спокоен, пока жив другой".
Пока по земле Украины, которую освобождал мой прадед от жовто-блакитников в Гражданскую, а дед мой от тех же самых изуверов в Великую Отечественную, ходят бандеровцы и американские агенты, мне тоже не будет покоя.
Прилепин много времени провел на Донбассе, помогая ополченцам, фактически работая на них, и ему определенно есть, что сказать. Прежде всего ему хочется сказать, что война нужна.
Сходу читатель получает красноречивые цитаты главы ДНР Захарченко.
Если мы решим случившееся миром, то и я, и 90% из тех людей, которые здесь остались, – все мы будем считать, что у нас украли победу.
Пока ты сапогом своим не наступишь на горло и не скажешь, что я сейчас могу своим сапогом передавить тебе шею, либо я убираю свой сапог и поднимаю тебя – живи. Только живи по нашим законам, воспринимай нашу правду.
Действительно, у Захарченко и Захара Прилепина своя правда.
Но к ДНР и войне автор вернется позже. В первой части книги он тихонечко разжигает национальную рознь. Ну, чтобы читатель понял, почему с украинцами воевать надо. Начинается это с таких баек:
Помню, с Марыськой шли по Хрещатику, нам нужно было попасть на какую-то улочку неподалёку, мы пять раз спросили дорогу, специально выбирая интеллигентных по виду женщин, и все пять раз нам, очень доброжелательно, более того – нарочито доброжелательно, отвечали по-украински.
Я не говорю по-украински, и моя жена тоже.
Киевские женщины отлично это видели, и, ласково улыбаясь, говорили медленно, чтоб мы лучше поняли. На русский они переходить не желали – хотя, конечно же, знали этот язык.
В другой раз, уже во Львове, я пошёл поменять валюту, отстоял очередь в кассу, сказал операционистке, что мне нужно, она ответила: не разумею. Девушке на вид было лет восемнадцать, она могла и не знать русского.
За мной толпилась очередь, длинная, человек в двадцать, я оглянулся и попросил мне помочь. В очереди были молодые парни и взрослые мужики, были деды и были пожилые жительницы Львова.
Никто не шелохнулся и не ответил ни слова.
– Помогите, будьте добры, а то не могу девушке объяснить, что мне нужно, – повторил я, ещё не очень веря, что всё обстоит настолько грустно. Эти люди в очереди – они точно слышали меня, и большая часть понимала, о чём я их прошу.
Реакции, между тем, не было никакой.
Я вот долго сидел и думал, чего такого могла не понять операционистка в обменнике? И откуда там очереди? Ну, ладно, автор мастеровитый, ерунды не напишет. Ага, конечно! Прилепин обожает врать в мелочах - мелочи всегда добавляют убедительности его выдумкам. Большинство россиян видели Киев и Львов только по телевизору, поверят во что угодно. Если Захарушка считает, что пришло время охренительных историй, то нужно было поярче что-то выдумать - например, голодные львовяне попытались заживо съесть российских туристов, когда те возмутились, что из каждой кафешки слышны записи речей Гитлера.
В общем, очень много таких разжигающих нацрознь историй. С прилежностью политрука Прилепин вдалбливает читателю, что все украинцы - фашисты-русофобы. Я был в Киеве, Одессе и Львове. Везде говорил по-русски. Почему у меня не было таких познавательных приключений, а, Захарушка?
Потом следует порция обмана о притеснении русского языка на Украине. Если ложь часто повторять, то в нее поверят. Любой политтехнолог знает это.
Подготовив читателя, Прилепин выдает интервью Захарченко, Моторолы и других замечательных людей, кратко и поверхностно рассказывает о событих на майдане и начале войны на Донбассе, раз за разом возвращаясь к мирным временам и бесовским украинцам.
Особо следует выделить фразу, брошенную мимоходом, о том, что военные силы Украины целенаправленно обстреливали храмы. Сразу понимаешь - безбожники неправославные. Ату их!
Захар с легкостью выдает такое:
На Куликовом поле ничего предосудительного не происходило – там собирали подписи за проведение референдума и придание русскому языку статуса государственного.
Грамотный Прилепин не уточняет, о чем был тот референдум. А он, между прочим, об отделении Одессы! Интересно, если бы в Петербурге собирали подписи об отделении от России, Захарушка тоже ничего предосудительно в этом не нашел? Откуда опытному омоновцу знать уголовный кодекс? УК Украины, Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - аналог УК РФ, Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
Не менее чудесная цитата:
Мало кого так ненавидят в российской, приятной во всех отношениях, умеренно просвещённой или хипстерской среде, – как Моторолу. Он будто бы средоточие всего того, что им отвратительно: лихой, дикий человек.
И мало кого так ценят и почитают все остальные нормальные люди
Нормальные люди почитают отморозка, приехавшего в чужую страну убивать и грабить? Да что это за реальность извращенная у тебя, Захар? И ты, читатель, понял, что если ты не рад военному, убивающему твоих братьев за границей, то ты ненормальный? Понял?
Мы узнаем историю становления Захарченко, которого даже Прилепин не удержался и разок назвал бандитом. Глава ДНР спокойно описывает, как захватывает горисполком и другие здания, создает армию, сотрудничает с российскими военными (уволенными, конечно).
Сотни страниц сказок о том, как безоружные повстанцы воевали с армией Украины, "голыми руками вырывали" у них оружие - видимо, даже то, которого у них отродясь не было.
Потом Прилепин проходится по известным личностям, сохранившим рассудок, и которые не подключаются к активной пропаганде, а открыто выступают против войны на Донбассе.
Никогда не был злорадным, но мне искренне хочется, чтоб сразу после того, как Гребенщиков произнёс свою сомнительную мудрость вслух, рядом с ним что-нибудь взорвалось бы, не смертельное, но очень громкое.
Если это не призыв мочить несогласных, то что? И всего лишь за то, что БГ дает гастроли на Украине.
Прилепин хвалит Вадима Самойлова, называя его "Агатой Кристи", за выступления для ополченцев, хвалит его самосознание. Вадим давно известен тем, что едет выступать туда, куда партия скажет. А его брата, Глеба Самойлова, Прилепин практически называет слабоумным наркоманом. Интересно, почему Захар приглашал Глеба выступать на свою передачку и кривого слова не сказал? Странно, всё это.
Заканчивается данная фантасмагория так:
На Донбассе впервые в XXI веке сложился истинный, идеалистический, а не за деньги собранный интернационал – почти как в Испании, – когда сербы, норвежцы, финны, французы, американцы, а также представители почти всех республик Советского Союза, движимые кто «правыми» убеждениями, кто «коммунистическими» (но никто – либеральными) съехались воевать за свободу дончан.
Да, наемники, безработные убийцы приехали воевать за свободу. Не за деньги, власть и имущество. Не для того, чтобы дать волю садистским наклонностям. За свободу каких-то незнакомых дончан. Финиш, Захар. Новое дно пробито.
Пора уже перестать героизировать убийц и преступников.
Пора заканчивать войну.
Дважды контуженный Прилепин так не считает. Он пишет довольно грамотную агитку, используя проверенные методы пропаганды. Никакой литературной или информационной ценности она, разумеется, не представляет, вводит людей в заблуждение, но дает шанс познакомиться с "пацанами, которые к успеху шли" и пришли, оставив за собой разрушенные города и тысячи трупов.
Захар гордится ими. И ты, читатель, гордись. Если ты "нормальный", конечно.
Оценил книгу
Донецк, как рисовали на плакатах в двадцатые годы прошлого века, - сердце России.
Что можно сказать про книгу, про жизнь, про войну?
Мы живем, как можем, как нам позволяют и совесть, и честь, и власти.
А там война. Каждый день, каждый час. И люди тоже живут, живут как могут.
Можно долго судить и обсуждать "Кто виноват", но от этого смерть никуда не исчезнет, так же как не испарятся трупы мужчин и женщин, стариков и детей, искалеченные тела и души.
Кто же виноват? Может тот кто взял в руки оружие и пошел по приказу убивать людей, которые хотели только жить? Или те кто придумал АТО? Или те кто придумал европейские ценности?
А люди просто хотели жить, но разве им можно?
Сотни народов имеют право на свободу, но только не русские. Русским в этом праве отказано.
А люди живут, несмотря на войну, на бомбежки, на смерть. Люди живут.
А в Донецке просто живут люди.
И если бы их не бомбили, исчезновения подавляющего большинства креативной элиты они просто бы не заметили.
Третье письмо. Таймураз
Влюбился в Донецк. Город-герой, город-упрямец, город-красавец.
Когда я сюда приезжал впервые, он казался пустым, стрелять начинали в 6 утра ровно, в город прилетало постоянно, в аэропорту шли бои; но по улице, словно внатяг, ехал трамвай, и в трамвае сидело несколько суровых стариков, и водитель трамвая был строг, торжественен и упрям, и казалось, что он ведёт трамвай по болоту.
Я приходил к «Донбасс Арене», огромному стадиону, и стадион был пустой, и вокруг было пусто, и всё это выглядело инфернально.
Рядом с «Донбасс Ареной» стоял только что разбомблённый краеведческий музей: в том, что досталось именно музею, была какая-то своя ирония: он таким образом стал вдвойне, втройне музей, его краеведческая ипостась словно бы многократно усилилась. Его руины — это сверхкраеведение.
Я сидел там на лавочке, один, и однажды очень удивился, когда увидел, как туда пришла женщина с ребёнком и они гуляли там, совершенно спокойные.
Потом я ушёл к себе, в тот дом, который снимал, и через час узнал, что на «Донбасс Арену» упала бомба, а через два — что там ранило ребёнка. Я никак не могу сопоставить того ребёнка, которого видел, пацана лет десяти, с «раненым ребёнком» из новостей, мне всё время хочется думать, что раненый — это какой-то ненастоящий ребёнок, специальный ребёнок для новостей, из папье-маше, чужой, ему не больно.
И до тех пор, и с тех пор таких детей тут, Боже мой, было много.
Я был тут, когда сошедшие с ума украинские военные пытались взорвать могильник с отходами в Донецке: и затем они повторяли эту попытку.
Был один день, когда бомбили так, что в течение одного дня в Донецке погибло триста человек, и кровь текла по улице, а больницы едва справлялись с беспрестанно поступавшими ранеными.
Были дни печали, дни разора, дни кошмара.
Было много дней недоумения: когда всё это кончится?
В гостинице, где я в очередной свой заезд останавливался в ноябре 2014 года, было полно ополченцев и дам лёгкого поведения; всё это напоминало Гуляй-поле. Ополченцами было занято несколько других гостиниц, за проживание они не платили и выезжать не собирались.
Помню ещё, меня позабавило: в гостинице лежало на столике подробное объявление, как себя вести в случае обстрела, бомбёжки, атаки, куда бежать, где прятаться, что предпринимать. Ни в одной гостинице мира такого не увидишь.
Сейчас ничего этого нет, людей с оружием на улице не увидишь, девушки лёгкого поведения в гостиницу даже не заглядывают, и даже объявление пропало: центр города не обстреливают достаточно давно.
Донецк выглядит безупречно: ухоженный, зелёный, яркий, словно бы издевающийся над всем, что здесь случилось.
В Париже и в Барселоне, в городках Западной Германии, где я был в этом году, не говоря про азиатские или африканские города, в разы, в десятки раз больше бедных, нищих, деструктивных личностей, безработных, потерянных, уставших от жизни, чем в Донецке.
Самое забавное: в Донецке, который самая глупая часть замайданной Украины считает пристанищем бандитов, никакого криминального элемента не видно.
То ли он съехал, то ли он старательно мимикрирует, то ли его извели на корню.
По виду это абсолютно европейский город, но только из той Европы, которая осталась в Европе в каких-то уголках — а на самом деле она стала заканчиваться ещё лет десять назад.
Ту Европу я успел застать и в течение этих лет видел, как она исчезает и осыпается.
Один мой товарищ сейчас находится в Донецке и шутит, выставляя в своём сетевом журнале местные фотографии — из центра города, конечно, — выдавая их то за турецкие, то ещё за какие-то — с лучших курортов мира.
И большинство — верит.
А как не верить, если Донецк так выглядит?
Еcли б они знали ещё, какая тут кухня! Есть рестораны, где кормят устрицами. Есть рестораны с кухнями таких народов мира, которых не сразу найдёшь на карте. А цены? В России от таких цен отвыкли.
Здесь живут сильные люди.
Живёт и много других, конечно же, но суть определяют сильные.
Страну возглавляет очень непростой человек, который, тем не менее, не только лично участвовал во всех основных боевых операциях, но и по сей день почти ежедневно бывает на передовой. Можете пожать плечами, однако в мире на сегодняшний момент больше таких руководителей нет. В том числе их нет на Украине, увы. Впрочем, и хорошо, что так. И не будет.
Известный мне глава одного донецкого района выезжает на каждый обстрел: днём, ночью, глубокой ночью, самым ранним утром. Все обстрелы, которые были в его районе, он видит немедля. И в тот же день начинает всё исправлять. С постоянством — не знаю, с кем и сравнить, — муравьиным.
Известная мне глава одной донецкой больницы не покидала свою больницу ни на день, хотя она до сих пор стоит в километре от передовой и прилетало в те места сотни раз.
Каждое утро она шла на работу, а люди ей говорили: «Пока вы так идёте на работу и мы вас видим, есть надежда, что всё наладится».
А она женщина. Она просто женщина.
И сын у неё врач — и работает в той же больнице, никуда не уехал. И все молодые специалисты оставались там. В том числе в те дни, когда район бомбили так, что все жители собирались в хорошо построенной, с толстыми стенами больнице, как в крепости.
Я назвал нескольких, кого знаю, — а скольких ещё не знаю.
В городе работают, невзирая ни на что, 179 детских садов и 45 больниц, 157 школ и 5 университетов, оперный театр и свыше 200 промышленных предприятий — в каждом! — вы слышите? — в каждом кто-то свершил свой подвиг, чтоб работа продолжилась.
Лучшая и несклоняемая половина города пережила самые невозможные времена — кто их может сломить теперь?
Донецк научил меня не бояться пафоса и патетики. Потому что за всё это уплачено трагедией и трудом.
У каждого, кто кривляется по этому поводу, — пусть лопнет его глупое лицо.
Только не надо мне говорить про десятки и сотни трудностей, неудач и недоработок. Они тоже известны.
Мы дали портрет парадный, но и он дорогого стоит. Здесь из огромнейшего не прифронтового, а фронтового города, находящегося к тому же в экономической блокаде, парадный портрет — это, знаете, дичайшая работа.
В большинстве городов земного шара, даже в многократно лучших условиях, подобных результатов добиться не могут. Добились здесь.
Некоторые люди вдруг оказываются очень слабыми.
Когда на Донбассе многое пошло не так, как задумывалось, он не превратился в большую Новороссию, не вошёл победоносно в состав России, как Крым, — и уж тем более русские войска не пошли на Киев, вешая по пути бандеровцев на столбах, — какая-то часть российской патриотически настроенной интеллигенции расстроилась.
Расстроилась мучительно, тоскливо, громко.
Из столицы нашей страны, из тихих квартир в пределах Садового, слышатся их упрямые голоса.
Расчёсывая груди в кровь или, напротив, снисходительно зевая, они хронически болеют о судьбах русского мира.
«Всё предали, — кричат или устало цедят они. — Всё слили, какой стыд, какой позор и стыд!»
«Нормальные люди должны уехать с Донбасса, там не за что умирать» — так они говорят.
Как будто два миллиона человек могут куда-то уехать. Как будто эти два миллиона людей не нуждаются в защите.
Во всех этих воплях чувствовалась и чувствуется какая-то подростковая инфантильность: ах, не получилась игра, как я хотел, так я разломаю все кубики, всё раскидаю по углам. Буду плеваться, да. Я буду плеваться слюной.
Постой, товарищ. Вытри рот. Разве ты расставлял эти кубики?
Тебя здесь, на Донбассе, никто не помнит. Ты можешь знать цену, заплаченную за достигнутое, но ты не видел её своими глазами.
Если б ты видел, ты бы постыдился так себя вести.
Да, быть может, мы получили за эту цену не столько, сколько надеялись, — но всё-таки мы кое-что получили.
На территории Донбасса русский язык не находится в статусе второстепенного, третьестепенного, подшитого сбоку. Там русский язык — государственный, главный, неотменимый.
На Донбассе в университетах и школах не учат нелепую историю древних укров, вечной борьбы с Россией, польско-украинского братства, битвы под Конотопом, Петлюры и Бандеры.
Там учат нормальную, правдивую, истинную русскую историю.
И этого не изменить.
По Донецку и Луганску не ходят факельные шествия. И не пойдут, иначе их разорвут на куски.
Там никому в голову не придёт скакать и кричать: «Москаляку на гиляку!»
Там не уронят наземь памятник Ленину и не разворотят кладбище с могилами ветеранов Великой Отечественной.
Туда не вернулась снисходительная оранжистская интеллигенция, чтобы презирать охлос и быдло и вести свои осклизлые речи.
Она ведёт свои речи издалека, но здесь этого никто не слышит. Всем всё равно.
Местные литераторы и музыканты — отличные, кстати, ребята — проводят свои слёты, свои концерты, свои чтения и удивлённо пожимают плечами, видя такую реакцию отдельных представителей нашей «патриотической интеллигенции».
И даже местный управленческий аппарат создан фактически с нуля. Из числа людей, не бросивших Донбасс и даже воевавших за него с оружием в руках.
На Донбассе нет Партии регионов. Нет «Свободы». Нет людей Тимошенко, и сама она сюда не приедет. Там ничего не решает Аваков. Там не играет желваками Саакашвили. Там ничего не значит Порошенко.
На Донбасс запрещён въезд всех самых одиозных олигархов Украины. Донбасс национализировал ту часть предприятий, которую смог национализировать на сегодняшний момент, и собирается национализировать остальные.
На Донбассе, сколько бы ни кричали истеричные замайданные пропагандисты, стоит «Кальмиус», стоят батальоны Моторолы и Гиви, а не «Айдар» и «Азов».
При лучших обстоятельствах «Кальмиус», батальоны Моторолы и Гиви могут оказаться западнее, чем они стоят сейчас. Но добровольческие батальоны не войдут в Донецк с развёрнутыми знамёнами. Разве этого мало?
Россия сделала для Донбасса столько, что она не сможет его отдать. Донбасс настолько вписан в некоторые российские реалии, что оттуда его уже не выписать. Россия истратила человеческие жизни — наших с вами братьев — и миллиарды народных денег на то, чтоб эта часть Донбасса была наша.
Что истратили вы? Слюну?
Зачем вы себя так ведёте всё время? Чтобы боец, стоящий здесь на передовой, бросил своё оружие и ушёл?
И тогда сюда придут бодрые карательные батальоны, чтобы бодро карать?
Мне кажется, вам лучше было бы смолчать в следующий раз.
То есть вы искренне думаете, что вы есть, но вы есть только в своей ленте. Знаете, как в советских магазинах висела лента для мух? Вот вы там, перебираете неугомонной лапкой.
На Донбасс приезжают пианисты с мировыми именами и звёзды мирового спорта — эти люди, шотландцы и американцы, оказались большими патриотами Донбасса, чем наши патриотические истерики и примкнувшие к ним истерички.
Иногда мне кажется, что кому-то из числа истеричной патриотической интеллигенции и, что особенно печально, из числа тех двух-трёх бывших полевых командиров ДНР и ЛНР, перебравшихся в Россию, втайне хотелось бы, чтоб Донбасс осыпался в тартарары.
Тогда они скажут, блеснув очами: «Видите, мы были правы. Без нас всё погибло. Видите?!»
Может быть, они в чём-то правы. Но без них не погибло ничего.
Хотелось большего? Молитесь. Молитва помогает.
Главное, чтоб вам не хотелось меньшего.
Территория нынешнего Донбасса (ДНР и ЛНР) равна почти 17 тысячам кв. км. Это больше, чем Ямайка, Ливан, Кипр, Черногория или Судан. Это немногим меньше, чем Кувейт, Израиль или Словения.
Донбасс — часть русского мира. И этого не отменить. Тем более что ничего ещё не закончилось.
Письма из Донбасса. Письмо пятое. Ирина
Рассказывает, как была контужена. У неё всегда получается так, что вокруг неё разворачивающиеся события выглядят забавными, почти праздничными. То, что в данном случае эти события называются бомбёжкой, значения не имеет.
– ...Мы были на Октябрьском. Идём, а собак нету – плохой признак. Та ладно, пошли. Я только один кадр сняла на пятом этаже, опять эта херня летит. Я даже не поняла, что это снаряд: подумала, что это... что-то живое летит. И только – бабах! – и как начали эту площадку бомбить. Я падаю, разбила себе локоть – там трещина была. Накрыла собой фотоаппарат, я же не могу на него лечь. Мне женщина, которая была со мной: «Ты как поплавок стояла!» И чего я его спасала – не знаю...
Потом она кричит: «Побежали в мамин подъезд, у меня есть ключ!» Я ей говорю, что бежать нельзя. Но она всё равно подорвалась, бежит. Я за ней, потому что не могу её оставить. Мы залетели в подъезд, упало ещё три снаряда. Думаю: уже всё. Чуть приоткрыла дверь – и прямо возле двери 82-й к-а-ак гахнул! Я вообще думала, что у меня вот это ухо вырвало с корнем. Ничего не слышу – и начинаю смеяться. Света, говорю, я, кажется, оглохла.
Долго слышала еле-еле. Потом стало получше… Но всё равно и сегодня слышу не очень хорошо. Когда телефон беру, иногда забываю, на это ухо ставлю и думаю, что телефон не работает.
– Не лечилась?
– Нет, тогда было много работы.
Вообще: у неё всегда много работы. Она без работы не живёт, Ирина. Миловидная – хотя черты лица не очень запоминающиеся, обаятельная женщина за сорок. Очень активная, очень говорливая, слышен одесский акцент. Ну и: бесстрашная, чего уж тут.
Тут не «гвозди бы делать из этих людей», а «мужчин бы делать из таких женщин» .
Она приехала сюда в Донецк из Одессы. Там последнее время работала журналисткой. Мы об этом ещё расскажем.
Однажды с предложением работы на неё вышел Анатолий Шарий, тот самый украинский журналист и видеоблогер, от имени которого трясёт всю замайданную публику. Человек, раскрывший невероятное количество украинских медийных фейков (а эти клоуны всё рассказывают про «распятого мальчика»), разложивший по полочкам десятки коррупционных схем (а им всё нипочём), показавший лицом публике откровенных нацистских убийц, отлично себя чувствующих в нынешнем Киеве, в нынешней Одессе, в нынешнем Харькове (а они всё талдычат про террориста Стрелкова)…
Шария хотят убить, его ищут, он постоянно меняет место жительства и один делает столько, сколько иной государственный телеканал не потянул бы. Ну, верней, не один, а с Ириной. Ирина выезжает на каждый обстрел, каждую бомбёжку. Кроме всего прочего, она фактически ежедневно находит в Донецке, в прифронтовой полосе, одинокую бабушку, чаще всего в разбомблённом доме. И передаёт каждой по восемь тысяч рублей (имени Шария не называя, а зачем): чтоб хоть чуть полегче было этот кошмар перенести.
Ни расписок, ни справок не берут: просто отдают деньги . Таких бабушек – уже более трёхсот. То есть, перед нами не только небольшой государственный телеканал, но и отдельная социальная служба.
Только бы в подобной социальной службе работало бы человек -надцать или -надцать пять и на телеканале ещё столько же, плюс генеральный директор, зам директора и две их секретарши. А тут – обходятся малыми силами. Вернее: огромными силами маленькой женщины.
Проблема у Ирины – техническая: не так просто найти таксиста, который будет лететь не прочь от места бомбёжки, а ровно к месту бомбёжки; да ещё и ждать там, пока эта взбалмошная женщина всё снимает.
В процессе проб и ошибок нашёлся один местный мужчина: интеллигентного, вовсе не героического вида, в очках, приветливый, внимательный.
– И сколько же ты платишь ему за такие поездки? – спрашиваю.
– Да по тарифу, – отвечает Ирина спокойно, – Я же у него постоянный клиент. Он уже настолько привык к моей работе, что помогает мне. Допустим, приехали на обстрел, пока я снимаю, он уже выскочил из машины, с людьми поговорил, узнал, где ещё упало. Или бабушек – он уже знает, какие мне нужны бабушки, он их высматривает. Последний раз собираемся выезжать, он говорит: «Моросит же, они в такую погоду не гуляют, давай подождём...» Он уже как спец по бабушкам.
– Какие славные люди есть на свете.
– Он всё повидал. И машина его побита, и обстрелянный. Где мы только с ним не бывали. Я помню, мы были на Буслаева – сильно стреляли там, туда вообще никто не добирался. Одна женщина хлеб там развозила людям, и я ездила – и больше никто. Подъезжаем, а пацаны наши ополченцы стоят – они в шоке, что мы приехали. Я вышла, поговорила, поснимала. Они дали мне проводника, – потому что там растяжки стоят, – он поводил нас. Уже собираемся назад, такси стоит. И пацаны говорят: «Давай, делай ноги отсюда, потому что минут через 5-10 прилёты начнутся».
Ну, я со всеми за руку здороваюсь, обнялись ещё раз. Я достала сигареты: всё, что у меня есть, я всё время с сигаретами езжу. «Пока!» – «Пока». «На память давайте сфотографируемся?» – «Давайте». Таксист сидит, его телепает. У него, когда нервничает, привычка поправлять воротник. Он этот воротник дёргает. Наконец, я сажусь. Он разворачивается и как дал газу. Я ему говорю: «Куда спешим? Снаряд летит 1000 метров в секунду. Кого догнать хотим? Мы не можем от него убежать, можем только его догнать... Просто расслабься, бояться не надо». И он, раз так, вздохнул, сбавил газ, голову опустил, и мы поехали. Ну, молодец дядька.

– Я хотела с двух сторон посмотреть на войну. Сначала была на украинской стороне, в Песках. Это же надо, чтобы меня так занесло! В первый же день на войне я попадаю под бомбёжку там. У меня где-то есть кадры, как глина падает мне на голову и я всё время делаю так: ой, ой, ой. У ВСУ началось наступление, они грузят БК и кричат: «Что ты стоишь? Каску надень!» – там во дворе лежала гора касок. И я подбегаю, хватаю каску, а она – в свежей крови. Я говорю: «Такую не одену». – «Ну как хочешь, стой, курица, без каски». Они со своих убитых и раненых пособирали только что эти каски... Я к тому моменту не то, что не была под бомбёжкой, но даже не видела бронетехники. Я другому журналисту кричу: «Смотри, танк, танк, настоящий танк!» Они на меня все эдак смотрят... Короче, я произвела на них ошеломляющее впечатление.
Потом приехала в Донбасс. Сняла квартиру: у меня с окна аэропорт видно было, то есть я в зоне прострела поселилась. В первые дни написала две-три статьи, с людьми поговорила и отправилась в детский центр для детей с ДЦП – туда был прилёт «Града». У них это было уже в четвёртый раз. Один снаряд «Града» упал в кушетку в массажном кабинете, прошил кушетку и – торчал.
Приехали сапёры, а я там снимаю. Сапёры подняли кушетку, говорят – да, «Град». И они начали его вытягивать, а он не достаётся – его нужно чем-то выдёргивать. Там был парень с позывным Воробей, он такую фразу сказал: «Все нормальные люди пусть выйдут, а вы можете остаться» – и на меня кивнул.
Они привязали трос к «Граду», кинули трос в окно, привязали к машине «Шкода». Я вышла и из-за угла снимаю. За рулём сидел Воробей. Он завёлся и под «Ламбаду» – так жжжжжи, жжжжжи – газует, тянет эту «градину». Я кричу ему: «Сцепление спалишь» – уже дым пошёл. Не может вытянуть «Шкода». А тут по дорожке едет дедушка в тракторе. Ему: «Батя, сюда, сюда». Воробей говорит: «Батя, вылезь, я дёрну». А он: «Я сам дёрну».
– Он знал, что будет дёргать?
– Нет. Потянул, а этот трактор аж поднимается. Я это всё снимаю. Дёргает, со второй или третьей попытки «градина» вылетает вместе с тросом на асфальт. Тракторист вышел, посмотрел и вот так сделал, – Ирина изображает, как у человека появляется обморочное состояние и он на несколько секунд теряет координацию. – А Воробей его по плечу: «Что, батя, обделался? Ты герой, батя, герой!»
Воробей потом погиб. Незадолго до смерти просил, когда он погибнет – чтобы мне об этом сказали. Он хотел, чтоб я о нём написала.
А тогда я сняла этот сюжет про Воробья, трактор и «Град» и кинула Толе Шарию посмотреть. Я с ним до этого уже общалась. Он говорит: «Ты не можешь в Донецке остаться на месяц поработать? Не боишься?» Я ему говорю: конечно, останусь. Звоню дочке, а у неё припадок. «Ты что, обалдела? – кричит, – Ты же с собой вещей не взяла!»
Так я приехала на три дня , а прожила в той квартире с видом на аэропорт год . Я все прелести бомбёжки знаю, всё, всё, всё. Мне даже интересно было там жить – всё видно, и недалеко бегать, потому что транспорт не ходил там. Когда прилёты снимала – аж к Путиловскому мосту пробежку делала.
Долгое время я делала 25 роликов в месяц о людях Донбасса . Мы показывали быт: как люди живут, как переносят войну, какие-то чувства. Наша цель была – люди. Армия – это само собой, но это опять же в том плане, если перед нами – человек. Вот в аэропорту я снимала, когда его штурмовали – какие классные ребята там стояли! Я ездила к ним не на десять минут, а на целый день. А чаще всего было два дня подряд. С утра и до темноты рядом с ними была. Вот мы сидим там, холодно, сквозняк, ветер воет – и ребята постепенно начали мне доверять. С ними нужно сначала общаться, а потом только писать. И мы уже настолько подружились, что они мне говорят – на, стреляй по бутылкам. Я говорю – нет, я не буду. Они же не знали, чем меня угостить – у них же там ничего нету. Они могут отблагодарить только тем, что есть: «Хочешь хотя бы пострелять, Ирин?»
– Я очень боялась, что Толя меня уволит с позором, – признаётся Ирина. – «Вот чего она боится, – с доброй иронией думаю я, – в донецком аэропорту торчать не боится, в зоне обстрелов жить не боится, а Шария боится», – Я очень много работала и не успевала первое время. Он обычно пишет: «Хай, где видео?» Если слово «хай» – то это он уже злится. Обычно он: «Привет, там всё нормально?» А если первое слово «хай», – то он нервничает. Я когда вижу «хай, где видео?», сразу говорю: на диске, сейчас буду грузить. Он очень много работает, и такие же требования у него ко мне.
Кто бы знал, как он эти видео монтирует. Даже военкор Грэм Филлипс меня спрашивал: «Как Шарий это делает? Это же какая работа! Я один монтирую видео три дня, а у него столько выходит! Несколько роликов в день!» А Толя просто везде работает: в автобусе, метро, в машине, в лодке, на корабле.
Я ему на ю-туб сначала кидала материал. Я в компьютерах не разбираюсь и телефон даже иногда забываю, как включается. Он мне говорит, что ему не подходит ю-туб: очень долго скачивать. Пишет мне: «Я в машине сижу и вот это скачиваю. Архивируй и кидай на диск». Думаю: Боже, как это делать. Но сама говорю: хорошо, я разберусь. Проходит месяц, он спрашивает – ты разобралась с архивацией? Говорю: я сегодня сяду, разберусь. Проходит три дня, сообщение от Шария: видео не принимается пока не разберёшься. И я начинаю в панике разбираться. Часа за два разобралась, скинула ему, он такой: «О, Аллилуйя!»

Однажды Ирина делала на площади Донецка опрос молодых людей, в основном из числа недавно вернувшихся: что они знают об идущей войне, что думают? Ответы были не самые впечатляющие: знали мало и думали про это не очень.
Молодёжи тут всякой хватает. Одни сидели в подвалах два года, а другие приехали две недели назад. И таких очень много. И что у них на уме – не то чтоб большой вопрос – а просто ничего особенного там нет.
Но в Донецке на этот ролик многие всерьёз обиделись, особенно журналисты. Мол, мы тебя, Ирина, тут приютили, а ты нам тут такое подкладываешь. Понятное дело, и сама Ирина была огорчена, а Шарий, говорят, вообще слёг от удивления и некоторого, знаете, разочарования.
На днях я подошёл к Захарченко, сказал, что надо как-то поговорить: и с местными журналистами, и с Ириной. Разъяснить ситуацию.
– Ты сам этот ролик видел? – спросил Захарченко.
– Не имеет значения, – сказал я. – Если убрать отсюда Ирину, у коллективного Майдана, СБУ и лично Порошенко будет праздник. Они все мечтают рассорить Шария и Донецк.
Захарченко помолчал.
На другой день говорит:
– Хочу с Ириной встретиться. Надо поговорить.
– Ополченцы не любят рассказывать о себе, не дают интервью, – признаётся мне Ирина. – Особенно они не любят журналистов из Голландии там, или Германии. Очень жёстко с ними, показали экскурсию и всё: «Вон отсюда, сели и уехали», – именно так и говорят.
Помню, Мёд – такой позывной, у него «Утёс» стоял, и немцы туда приехали. Я с этими немцами хожу, меня ополченцы уже хорошо знают. Мёд подходит к немцу и говорит: «Иди сюда». Берёт так, вытирает пыль и говорит: «1943-й год выпуска. Вот с это херни мой дед твоего еб*шил». А переводчик стоит и молчит. Мёд говорит: «Переводи». Тот молчит. Мёд так автомат одной рукой профессионально сбрасывает с плеча и наводит: «Я что сказал?» Потом идём, там ступеньки вниз, и Мёд говорит: «Сюда нельзя, стоять! – только так он с немцами разговаривал. – Там наши «глаза». Глаза, уё*ывайте оттуда». Слышу: шур, шур, шур, наблюдатель ушёл. «Всё, глаза ушли, идём».
А потом Мёд немцам говорит: «Почему ваша Меркель такая бл*дь?» А они молчат, они его уже боялись. Я смеюсь, прошу: прекрати. А он опять так автомат одной рукой так ф-ф-фух: «Я что-то не понял, переводи».
В общем пообщался с ними и говорит: «Всё, вы мне надоели, нахер отсюда». Они уходят, немец мне показывает, мол, пошли в автобус. Я говорю: не, не, не, я остаюсь. Он так посмотрел на меня… Ну, сложно описать, как.
Этот Мёд и говорит: «Ира как человек приезжает сюда и привозит нам торбы покушать и покурить, а вы как немцы – с пустыми руками».
Ополченцы мне много рассказали вещей, которые в принципе нужно чуть-чуть притормозить. Они не всегда осознают масштаба аудитории Шария. Что-то ляпнут, а им таких трамублей на следующий день выпишут.
– Удачные вещи часто получаются совсем случайно, – признаётся Ирина.
Снимали Горловку. Там такая дырка была в стене огромная. Прямое попадание 220-м. Штуки три было этих попадания. Я выхожу, люди стоят, смотрят на нас, а в сторонке – какой-то дед. Почему я обратила на него внимание? Я же с Одессы, а он – чисто одесский еврей: шортики выше пупка, ремешочек. Я говорю: ничего себе, еврей с Привоза. Мне стало интересно, что это за дед. Подошла заговорила с ним, слышу акцент – ага, угадала, и он говорит: «Я друг Путина». А нам уже уезжать нужно. Я ему: приеду через два дня, хорошо? Отвечает: хорошо.
И я его записала. Получилось офигенское интервью. Это человек, который реально вырос с Путиным. И Путин был у него шафером на свадьбе!
Толя говорит: как ты его нашла? Абсолютно случайно.
Дед мне сразу говорит: «Я хочу гонорар». Спрашиваю: сколько, 200 гривен хватит? Говорит: «Хватит. И у меня будет важное условие: чтобы в кадр вошёл мой кот. Снимите моего кота».
Что делать, я снимаю, дед вышел в другую комнату, а я Толе шепчу в камеру: «Толя, извини, но мне нужно снять кота».
Толя говорит потом: «Я рыдал».
 –
–
Украинских военных ты тоже видела. Что это за люди?
– Я застала интересный период… Вот Карловка, мост идёт бетонный, а дальше уже Пески. Следом аэропорт как на ладони. На мосту в Карловке стояли ещё даже не вэсэушники, а те, которых призвали первыми – кого на 10, кого на 40 дней, – и тут их – хоп! – и на три месяца на передок. Как они могли необкатанных гражданских людей кинуть на передок?
Кто-то из них был учителем, кто-то мелкий бизнес имел – такие люди там стояли. Хорошие пацаны, на самом деле.
От моста до штаба там был такой поворот, где нужно было успеть повернуть в Пески, потому что дальше уже блокпост ДНР стоял. Мы когда поехали в Пески, нам сказали: «Не забудьте повернуть – дальше ДНР, они стрелять начнут». А для меня ДНР – это свои. Я не боялась. Генку, водителя, трусило, а я как-то спокойно. Я тогда ещё не понимала, что такое война. И мы, в общем, забыли про поворотик, проехали его – и едем на ДНР. По нам начинают стрелять. Генка на месте разворачивается, и мы обратно.
Снова приезжаем к мосту. А украинские солдаты только кушать сели, чай пить. И ругаются: «Как же вы проехали!» И один из Кировограда говорит: «Я поеду с ними, покажу дорогу». Ему говорят: «Ты что, больной? Тебе что, жить надоело?» Но этот солдат сел с нами, вот так поставил автомат и нас сопроводил.
Генке сказали: «Едь на большой скорости, потому что простреливают». Генка выжал всё, что можно из машины выжать, – а там дом стоял в саже, почти не видный – и мы чуть в него не влепились. А Генка очень профессиональный водитель. Он как-то вывернул руль, спас нас.
И так этот солдат доставил нас в штаб, рискуя собой.
Хорошие такие мальчики были тогда… не злые. Один с красными глазами с Запорожья – заплаканный какой-то был. Он говорит: «Я тут не высыпаюсь, я домой хочу. Что они упёрлись в этот Донбасс? Ну не хотят они с нами. Отдали бы этот Донбасс». При всех говорил, не тушуясь. Тогда ещё не боялись.
– Из донецкого аэропорта забирали мы пленных, – продолжает Ирина в другой раз, – Отмороженных, без ног, без рук. Когда уже всё закончилось. Я к ним ходила, с ними разговаривала. Я им кушать носила. Зубные щётки, пасты. Причём одну сумку несла на третий этаж, нашим пацанам, а вторую наверх – «киборгам». Медсёстры говорят: «Они нас убивают, а вы их кормите». Я говорю: «Они нас убивают, а вы их лечите». Мы же не фашисты.
И «киборги» мне божились, клялись, что не будут больше воевать. Я с ними много разговаривала на разные темы. Там был один мальчик – Остап, без ноги, отрезали под корень – 20 лет ему. Я его на себе несла в «скорую» на обмен. Я ему говорю: если ты будешь говорить гадости на ДНР и на людей, что тебя спасли, – прокляну. Но он молодец, дал интервью, и очень хорошее. Его спросили: что вы пожелали бы украинским солдатам, которые идут на войну? А он две секунды молчал и ответил: «Ничого не пожелаю, чтоб не буты ворогом». То есть Остапчик молодец.
А был другой, тоже с ампутацией, тоже божился, что воевать не придёт, а я смотрю: одел протез и опять на передке. В твиттере я с матами ему написала: сука такая, ты же обещал. Я знала, что он будет читать. А он ответил: «Ирина, у вас на одной руке ангел сидит, а другой рукой вы чёрта гладите».
– Может, это он себя имел в виду во втором случае...
– ...И ещё был один. Я с ним один на один разговаривала. Он мне рассказывает, что ни в кого не стрелял, а я ему верю. Ну не может же человек врать. И я говорю офицеру из контрразведки: «Такой хороший мальчик, он будет рыбу ловить, землю пахать. Включите его в обмен». А он мне: «Ира, ты что, офигела, это спецназ. Знаешь, сколько он наших положил?» Вот так вот...
А другой был «киборг» в возрасте: зло-о-обный. Если другие говорят: принесите то-то, то-то, – этот рычит: «Не надо мне ничего». И не разговаривает. Даже искры из глаз летят. Кидался на меня, как собака!

– Две тысячи человек в Одессу заранее приехали из Киева – Майдан опустел в этот день. С 1-го на 3-е они в Одессе сидели четыре дня. Для них были проплачены гостиницы у моря, такие задрипанные турбазы. Их специально завозили, и они ждали. Это всё оплачивалось. Если бы не было 2 мая, было бы что-то другое. Это массовое убийство должно было произойти, чтобы люди испугались. И люди очень сильно испугались.
У меня есть одна знакомая девушка, Наташа, она уже уехала в Россию – не смогла жить после этого в Одессе. В тот день, 2 мая, она сразу увидела всё по телевизору и прибежала посмотреть. Когда эта толпа двухтысячная окружила антимайдановцев и заталкивала их в Дом профсоюзов, они были уверены, что спрячутся там: будут бросаться камнями и дожидаться милиции. Никто же не знал, что так закончится.
Муж Наташи преподавал в военном училище, подполковник, а сыновья у них – в «Альфе». Наташа поэтому говорит: я спецов узнаю по повороту головы.
И вот все побежали в здание – там темно, кабинеты закрыты, выходной. Основная часть убежала в одну сторону, Наташа пошла в другую, с камнем в руке. И увидела спецов. Это же сталинское здание, окна высокие, и в оконных проёмах, так, чтобы их не видно было, стояли спецы.
Возле них было несколько ящиков с коктейлями Молотова. Она рассказывал мне потом: «У меня сразу одна мысль – будут убивать ». Наташа догадалась включить дурочку и спросила: «Мальчики, здесь камни выбрасывать?». Они кивнули. И говорит им: мол, вам ещё принести? Они в ответ снова кивают. И она выскочила. Стала бегать по коридору – искать выход. Второй этаж, очень высокие потолки. Одно окно открылось, она в него выглянула – искала глазами мужа.
А что такое спец: муж учёл даже то, что все будут в коричневой защитной форме, и поэтому одел ярко-синюю футболку, чтобы выделяться. И бегал под окнами.
Она его, наконец, увидела, он кричит ей – прыгай! Она боится высоты, но прыгнула. Он поймал её, повредил себе позвоночник. И вокруг сразу образовалась толпа подростков – малышей этих карандашей со свастиками – и в намордниках, и без масок, с битами. Они начали их окружать, чтобы добить. Одна девушка, очень хрупкая, – Наталья её видела потом на видео – крикнула: «Убыйтэ еи!» А Наталья говорит: «За что меня убивать?» А эта девушка: «Убыйтэ еи, она убыла наших побратымив».
Они начали их окружать. Муж её закрывает собой. Минута ещё – и всё. Тут появился какой-то видный и влиятельный мужик в кепке, видно, знавший её мужа, и спрашивает его, сможет ли он сейчас быстро увести свою жену. «Да, смогу». Так их спасли.
Муж Наташин начал тянуть её по парку, она тормозила ногами, кричала: «Не убивайте их! Они будут их убивать!» Она всё уже поняла. Я пришла туда через месяц после событий. Здание днём охраняли 60 милиционеров, а ночью – эти их нацисты в чёрной форме.
Днём, когда стояла милиция, я смогла попасть в здание.
Со мной была Наташа и один местный полковник. Он рассказывал, как после всего людей оттуда выносил. Он мне показал, где сколько людей лежало. Говорит: в этом туалете – там дырка – и в ней девочка пряталась, лет пятнадцати. Её туда загнали, она полностью разбила череп. Полковник показывал: «Я её вот так выносил, она как пушинка была...» Вот здесь столько-то лежало, вот здесь столько-то.

Недели две я допрашивала свидетелей, которые ни с кем не разговаривали. Ни с милицией, ни с кем. А мне всё рассказывали. Я им дала слово, что не буду их записывать. Что всё буду запоминать.
Итак, что сделали те, кто устроил эту бойню .
Там был взрыв хлора . Всю штукатурку в сталинском здании содрать нереально. Так они перфораторами сбивали штукатурку в зоне взрыва хлора: это, типа, ремонт. В зоне лестничного марша сбивали штукатурку «с мясом». Сбивали и вывозили, чтобы даже следа не осталось.
– Следа того, что применяли химию?
– Да. На видео есть кадры, когда ломятся эти малолетки в шортах с битами, а один человек кричит: «Пять минут не входить». Они ждали, пока газ выйдет. Я спросила у одного человека из СБУ: каким газом их травили? Он: тык, мык. Я говорю – пожалуйста, скажи. Он говорит: хлор .
Когда кинули этот хлор, люди упали. После смерти спецы их переворачивали. Они все перевёрнутые, посмотрите на фото. Редко кто лежит лицом вниз – один или два. И у всех изо рта и носом пошла типа каша манная. Это специфическое воздействие хлора. Спецы их поливали коктейлем Молотова и поджигали, чтобы по фото нельзя было определить, что травили хлором. Подчищали последствия.
По первому образованию я архитектор. Я искала план Дома профсоюзов. Это же самое большое бомбоубежище в Одессе. Там есть ход, который ведёт к зданию СБУ, по катакомбам. Поэтому спецы могли уйти по катакомбам и зайти по ним же.
Когда я ходила и снимала всё, меня поразил тот факт, что все входы в подвал даже с пожарных лестниц и пожарных ходов заварены вот таким слоем железа, а сверху решётка, арматура – наглухо! Я думала: всё равно где-то отковырну, пролезу – нет!
– Они после случившегося всё заварили?
– Да, все ходы в подвал. Планы эвакуации во время пожара есть, но ходы заварены и подвала как бы и нету. Даже вход в лифт заварен, шахты заварены: к подвалу не подойти. И есть кадры, когда зашли журналисты 3 мая снимают и говорят: «А что это здесь замуровано? Капает цемент! Ну толкни же ты ногой, это же подвал».
Там были убиты люди ещё и в подвале, и они в списки не входят. Оттуда был звонок одного парня: «Мама, нас сейчас будут убивать» .
– Значит, там было больше погибших?
– Конечно! Более 150 точно, до трёхсот . Тем более, что многие прятались, многие семьи боялись – и хоронили тихо, как будто их покойных там не было. Очень много пострадавших было, которые умерли потом от ран. Наконец, очень часто врачи в больницах говорили: «Называйте чужие фамилии и адреса, потому что вам будут мстить ». И вот они писали – Вася Васин, ни документов, ничего – зашили голову, травма черепа. Но до сих пор некоторые люди в больницах лежат с переломом позвоночника.
Я общалась с мальчиком 16 лет. Когда начались эти события, кто-то из взрослых прогнал его домой: прячься, убегай. Он успел убежать. И когда уже начался этот кошмар, он обошёл с тыла Дом профсоюзов и видел, как люди обожжённые прыгают вниз. Там же третий этаж – это как пятый по нашему метражу. И мальчик этот сидел у меня на кухне и его так трясло, сильнее и сильнее, я уже думала, у него эпилепсия какая-то.
Я дотянула до последнего, чтобы дать ему воды потом, чтобы он успел всё это высказать. И он говорил: «Тётя Ира, они прыгали из окон, они так кричали! А их битами добивали. Я слышал, как у них кости хрустят. Это так страшно! Так страшно! Я убежал» .
Там рядом школа олимпийского резерва, он перепрыгнул забор, спрятался в закоулочек и засел там в углу. И говорит: «Тётя Ира, я всю ночь там сидел, а они пели песни и искали, чтобы добивать людей».
Потом, уже в Песках, когда я была в украинской армии, встретила там человека – такого здорового, бритоголового. Он говорит: «А ты меня не узнаёшь? Я на всех пабликах был, на всех сайтах». И признался мне: «Мы же 2 мая срезали с приехавших пожарных машин шланги». Когда пожарники подъехали – их тоже били. Захватывали машины и не давали тушить. И этот бритоголовый был там. А нашёлся на фронте – он сразу же уехал из Одессы. Сейчас он в батальоне «Донбасс» – позывной Слон .
Там столько фактов, которые ещё не известны! Страшная тема! Спецы знают, чем травили, сколько с огнестрелом, сколько забито насмерть, сколько изуродовано.
Допустим, был такой Генка Кушнарёв – я нашла место его гибели. Там его каска лежала, его бита – ну, верней, дрючок от лопаты. За ним стояли несколько женщин, а он дрался как лев, до последнего. В него сначала выстрелили, а потом человек шесть-семь начали его бить. Они все кости ему сломали, месиво сделали из человека.
В Одессе такая трагедия произошла, что, когда люди узнают, когда всё это всплывёт, когда всё это будет рассказано – мир просто вздрогнет .

Отчего-то я не думаю, что миру это будет рассказано. И точно не верю, что мир рухнет. Столько всего, он уже видел, этот мир, и даже не вздрогнул. Но в Донбассе – смотри хоть каждый день.
Мы едем с Ириной – навестить самых одиноких бабушек, в Октябрьский. По дороге Ирина, как заправский экскурсовод, рассказывает:
– Это местная школа. Здесь бомбили с самолётов. Когда были бомбёжки, все дети собирались в подвале и молились. Летали украинские вертолёты, солдаты сидели вниз ногами и с автоматов стреляли. Местные дети всё это видели. Они вам расскажут, где кого убило, кого и когда ранило. Что делать, когда прилетает. Они разбираются в калибрах. Конечно, часть детей уехали с родителями, но большая часть местных здесь была.
Спрашиваю у них: поменяла ли война ваше отношение к школе, к родителям. Они говорят: «Конечно, раньше мы не ценили счастья просто ходить в школу. Я сейчас больше слушаюсь маму. У неё и так тонна нервов уходит. Ещё не хватало, чтобы я ей проблемы создавал». Ну, они как мужики взрослые. Им 10-12 лет, а они как дядьки разговаривают. Не покемоны – те, что в барах сидят. Эти вырастут настоящими, серьёзными. Они жизнь ценят , они всё понимают.
Ирина молчит, эмоций её не разглядеть. Хотя таксисты, которые с ней иногда ездят вместо её постоянного водителя, могут и разрыдаться: наслушаются историй от бабушек или от детей и плачут. И ведь вроде сами донецкие, повидали кое-что.
Октябрьский – по виду посёлок как посёлок, примыкает к городу, сельская зона; но чем ближе к передовой, тем сильней разрушения. Те дома, что стоят на краешке посёлка, – побитые все. Сюда попало в крышу. Здесь снесло забор. Здесь взорвалось возле окна. Здесь вынесло ворота.
Почти в каждом доме живёт немолодая семья или одинокая бабушка – им всем некуда выехать, некуда бежать. Да я и не думаю, что они уехали бы. Так и живут: под ежевечерний, еженощный, ежеутренний грохот, когда каждую минуту может упасть ровно к ним, на них. Мы накупили им еды, привезли денег.
– Кожный дэнь бьють, – рассказывает нам бабушка в первом доме, – кожный дэнь оцэ как вечир настае часов в восемь в полдевятого – и бах, и бах, и бах. И оце одна ночь, потом втора. И ночь в воскресенье. И в понедельник или во вторник. И в среду до 2-х часов не утихали. В 2 часа утихли. Я выползла, подывылася кругом…
И во втором доме нам бабушка рассказывает то же самое. И в третьем. И в четвёртом. В четвёртом бабушке – 98 лет. Очень смешно шутит: рассказала, как захотела взять кредит, а ей не дали. Я бы расхохотался, если б мне не хотелось заплакать.
И все они говорят на украинском или на суржике: не знаю, чем он отличается. А Ирина легко переходит в разговоре с ними на украинский. Они все её знают, помнят, зовут «доченькой», обнимают и радуются ей несказанно.
По кому стреляют? Скажите мне, дорогие украинские читатели. По москалям, кацапам и сепаратистам? Это же бабушки! Ваши украинские старухи!
(Я знаю, что сейчас ответят эти замайданные упрямцы непобедимые. Они ответят: если б Стрелков не пришёл… Они всегда так отвечают. Хотя сами наизусть знают ответ: а если б не Майдан, если б не факельные шествия, а если б не стрельба в Харькове и беспредел в Мариуполе, а если б не 2 мая в Одессе… Но им хоть кол на голове теши.
Вопрос всё равно в другом: чего считаться-то? Ярош, Стрелков, Турчинов – чего считаться? – в бабушек-то сейчас стреляют, сегодня: «Кожный дэнь оцэ как вечир настае часов в восемь в полдевятого – и бах, и бах, и бах. И оце одна ночь, потом втора. И ночь в воскресенье. И в понедельник или во вторник». Если вечно так и будете кивать на того, кто якобы начал, – голова окривеет).
Начало смурнеть, и бабушки нас погнали прочь: сейчас начнуть бомбить, уезжайте.
Мы поехали. А они там остались. Сидят с почерневшими лицами, с почерневшими руками, в своих платочках возле домов и ждут. Никуда уже не прячутся. Мы немного помолчали с Ириной, но через минуту она уже говорит:
– А вот тут я у одной знакомой женщины ночевала. Обстрелы каждую ночь – приехала снимать. Джинсы, куртку, берцы надела. Она мне говорит вечером: переодевайся в ночнушку. А там стрельба такая, какой там спать! Я вот так под утро в берцах и обнаружила себя задремавшей на диване. А тут – «ночнушка, рубашка»... Думаю, сейчас ещё какое-нибудь попадание будет рядом, а я в этом наряде непонятном. Скажут: «Чего это Ира босиком в рубашке лежит. Чего она там делала?»
И смеётся заливисто. Ей смешно. Ну и я улыбнулся. А чего ещё делать? Остаётся только улыбаться: силе и жизнелюбию женщины. Женщина победит всё.
Захар Прилепин, писатель. Донбасс. Лица гражданской войны
Захар Прилепин – о творческих планах, россиянах и Донбассе
Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях , постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания» . Все Конференции – открытые и совершенно безплатные . Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…
Письмо пятое
- …Мы были на Октябрьском. Идём, а собак нету - плохой признак. Та ладно, пошли. Я только один кадр сняла на пятом этаже, опять эта херня летит. Я даже не поняла, что это снаряд: подумала, что это… что-то живое летит. И только - бабах! - и как начали эту площадку бомбить. Я падаю, разбила себе локоть - там трещина была. Накрыла собой фотоаппарат, я же не могу на него лечь. Мне женщина, которая была со мной: «Ты как поплавок стояла!» И чего я его спасала - не знаю… Потом она кричит: «Побежали в мамин подъезд, у меня есть ключ!» Я ей говорю, что бежать нельзя. Но она всё равно подорвалась, бежит. Я за ней, потому что не могу её оставить. Мы залетели в подъезд, упало ещё три снаряда. Думаю: уже всё. Чуть приоткрыла дверь - и прямо возле двери 82-й к-а-ак гахнул! Я вообще думала, что у меня вот это ухо вырвало с корнем. Ничего не слышу - и начинаю смеяться. Света, говорю, я, кажется, оглохла.
Донецкий аэропорт
…Долго слышала еле-еле. Потом стало получше… Но всё равно и сегодня слышу не очень хорошо. Когда телефон беру, иногда забываю, на это ухо ставлю и думаю, что телефон не работает.
Не лечилась?
Нет, тогда было много работы.
Вообще: у неё всегда много работы. Она без работы не живёт, Ирина.
Миловидная - хотя черты лица не очень запоминающиеся, обаятельная женщина за сорок. Очень активная, очень говорливая, слышен одесский акцент.
Ну и: бесстрашная, чего уж тут.
Тут не «гвозди бы делать из этих людей», а «мужчин бы делать из таких женщин».
Она приехала сюда, в Донецк, из Одессы.
Там последнее время работала журналисткой. Мы об этом ещё расскажем.
Однажды с предложением работы на неё вышел Анатолий Шарий, тот самый украинский журналист и видеоблогер, от имени которого трясёт всю замайданную публику. Человек, раскрывший невероятное количество украинских медийных фейков (а эти клоуны всё рассказывают про «распятого мальчика»), разложивший по полочкам десятки коррупционных схем (а им всё нипочём), показавший лицом публике откровенных нацистских убийц, отлично себя чувствующих в нынешнем Киеве, в нынешней Одессе, в нынешнем Харькове (а они всё талдычат про террориста Стрелкова)…
Шария хотят убить, его ищут, он постоянно меняет место жительства и один делает столько, сколько иной государственный телеканал не потянул бы. Ну, верней, не один, а с Ириной.
Ирина выезжает на каждый обстрел, каждую бомбёжку.
Кроме всего прочего, она фактически ежедневно находит в Донецке, в прифронтовой полосе, одинокую бабушку, чаще всего в разбомблённом доме. И передаёт каждой по восемь тысяч рублей (имени Шария не называя, а зачем): чтоб хоть чуть полегче было этот кошмар перенести.
Ни расписок, ни справок не берут: просто отдают деньги. Таких бабушек - уже более трёхсот.
То есть перед нами не только небольшой государственный телеканал, но и отдельная социальная служба.
Только бы в подобной социальной службе работало бы человек -надцать или -надцать пять и на телеканале ещё столько же, плюс генеральный директор, зам директора и две их секретарши.
А тут - обходятся малыми силами.
Вернее: огромными силами маленькой женщины.
Проблема у Ирины - техническая: не так просто найти таксиста, который будет лететь не прочь от места бомбёжки, а ровно к месту бомбёжки; да ещё и ждать там, пока эта взбалмошная женщина всё снимает.
В процессе проб и ошибок нашёлся один местный мужчина: интеллигентного, вовсе не героического вида, в очках, приветливый, внимательный.
И сколько же ты платишь ему за такие поездки? - спрашиваю.
Да по тарифу. - отвечает Ирина спокойно, - Я же у него постоянный клиент. Он уже настолько привык к моей работе, что помогает мне. Допустим, приехали на обстрел, пока я снимаю, он уже выскочил из машины, с людьми поговорил, узнал, где ещё упало. Или бабушек - он уже знает, какие мне нужны бабушки, он их высматривает. Последний раз собираемся выезжать, он говорит: «Моросит же, они в такую погоду не гуляют, давай подождём…» Он уже как спец по бабушкам.
Какие славные люди есть на свете.
Он всё повидал. И машина его побита, и обстрелянный. Где мы только с ним не бывали. Я помню, мы были на Буслаева - сильно стреляли там, туда вообще никто не добирался. Одна женщина хлеб там развозила людям, и я ездила - и больше никто. Подъезжаем, а пацаны наши ополченцы стоят - они в шоке, что мы приехали. Я вышла, поговорила, поснимала. Они дали мне проводника, - потому что там растяжки стоят, - он поводил нас. Уже собираемся назад, такси стоит. И пацаны говорят: «Давай, делай ноги отсюда, потому что минут через 5–10 прилёты начнутся». Ну, я со всеми за руку здороваюсь, обнялись ещё раз. Я достала сигареты: всё, что у меня есть, я всё время с сигаретами езжу. «Пока!» - «Пока». «На память давайте сфотографируемся?» - «Давайте». Таксист сидит, его телепает. У него, когда нервничает, привычка поправлять воротник. Он этот воротник дёргает. Наконец, я сажусь. Он разворачивается и как дал газу. Я ему говорю: «Куда спешим? Снаряд летит 1000 метров в секунду. Кого догнать хотим? Мы не можем от него убежать, можем только его догнать… Просто расслабься, бояться не надо». И он, раз так, вздохнул, сбавил газ, голову опустил, и мы поехали. Ну, молодец дядька.
Я хотела с двух сторон посмотреть на войну. Сначала была на украинской стороне, в Песках. Это же надо, чтобы меня так занесло! В первый же день на войне я попадаю под бомбёжку там. У меня где-то есть кадры, как глина падает мне на голову и я всё время делаю так: ой, ой, ой. У ВСУ началось наступление, они грузят БК и кричат: «Что ты стоишь? Каску надень!» - там во дворе лежала гора касок. И я подбегаю, хватаю каску, а она - в свежей крови. Я говорю: «Такую не одену». - «Ну как хочешь, стой, курица, без каски». Они со своих убитых и раненых пособирали только что эти каски… Я к тому моменту не то что не была под бомбёжкой, но даже не видела бронетехники. Я другому журналисту кричу: «Смотри, танк, танк, настоящий танк!» Они на меня все эдак смотрят… Короче, я произвела на них ошеломляющее впечатление.
Потом приехала на Донбасс. Сняла квартиру: у меня с окна аэропорт видно было, то есть я в зоне прострела поселилась. В первые дни написала две-три статьи, с людьми поговорила и отправилась в детский центр для детей с ДЦП - туда был прилёт «Града». У них это было уже в четвёртый раз. Один снаряд «Града» упал в кушетку в массажном кабинете, прошил кушетку и - торчал. Приехали сапёры, а я там снимаю. Сапёры подняли кушетку, говорят - да, «Град». И они начали его вытягивать, а он не достаётся - его нужно чем-то выдёргивать.
Там был парень с позывным Воробей, он такую фразу сказал: «Все нормальные люди пусть выйдут, а вы можете остаться» - и на меня кивнул.
Они привязали трос к «Граду», кинули трос в окно, привязали к машине «Шкода». Я вышла и из-за угла снимаю. За рулём сидел Воробей. Он завёлся и под «Ламбаду» - так жжжжжи, жжжжжи - газует, тянет эту «градину». Я кричу ему: «Сцепление спалишь» - уже дым пошёл. Не может вытянуть «Шкода». А тут по дорожке едет дедушка в тракторе. Ему: «Батя, сюда, сюда». Воробей говорит: «Батя, вылезь, я дёрну». А он: «Я сам дёрну».
Он знал, что будет дёргать?
Нет. Потянул, а этот трактор аж поднимается. Я это всё снимаю. Дёргает, со второй или третьей попытки «градина» вылетает вместе с тросом на асфальт. Тракторист вышел, посмотрел и вот так сделал, - Ирина изображает, как у человека появляется обморочное состояние и он на несколько секунд теряет координацию. - А Воробей его по плечу: «Что, батя, обделался? Ты герой, батя, герой!»
Воробей потом погиб. Незадолго до смерти просил, когда он погибнет - чтобы мне об этом сказали. Он хотел, чтоб я о нём написала.
…А тогда я сняла этот сюжет про Воробья, трактор и «Град» и кинула Толе Шарию посмотреть. Я с ним до этого уже общалась. Он говорит: «Ты не можешь в Донецке остаться на месяц поработать? Не боишься?» Я ему говорю: конечно, останусь. Звоню дочке, а у неё припадок. «Ты что, обалдела? - кричит, - Ты же с собой вещей не взяла!»
Так я приехала на три дня, а прожила в той квартире с видом на аэропорт год. Я все прелести бомбёжки знаю, всё, всё, всё. Мне даже интересно было там жить - всё видно, и недалеко бегать, потому что транспорт не ходил там. Когда прилёты снимала - аж к Путиловскому мосту пробежку делала.
Долгое время я делала 25 роликов в месяц о людях Донбасса. Мы показывали быт: как люди живут, как переносят войну, какие-то чувства. Наша цель была - люди. Армия - это само собой, но это опять же в том плане, если перед нами - человек. Вот в аэропорту я снимала, когда его штурмовали - какие классные ребята там стояли! Я ездила к ним не на десять минут, а на целый день. А чаще всего было два дня подряд. С утра и до темноты рядом с ними была. Вот мы сидим там, холодно, сквозняк, ветер воет - и ребята постепенно начали мне доверять. С ними нужно сначала общаться, а потом только писать. И мы уже настолько подружились, что они мне говорят - на, стреляй по бутылкам. Я говорю - нет, я не буду. Они же не знали, чем меня угостить - у них же там ничего нету. Они могут отблагодарить только тем, что есть: «Хочешь хотя бы пострелять, Ирин?»
Я очень боялась, что Толя меня уволит с позором, - признаётся Ирина. - «Вот чего она боится, - с доброй иронией думаю я, - в донецком аэропорту торчать не боится, в зоне обстрелов жить не боится, а Шария боится», - Я очень много работала и не успевала первое время. Он обычно пишет: «Хай, где видео?» Если слово «хай» - то это он уже злится. Обычно он: «Привет, там всё нормально?» А если первое слово «хай», - то он нервничает. Я когда вижу «хай, где видео?», сразу говорю: на диске, сейчас буду грузить. Он очень много работает, и такие же требования у него ко мне. Кто бы знал, как он эти видео монтирует. Даже военкор Грэм Филлипс меня спрашивал: «Как Шарий это делает? Это же какая работа! Я один монтирую видео три дня, а у него столько выходит! Несколько роликов в день!» А Толя просто везде работает: в автобусе, метро, в машине, в лодке, на корабле.
Я ему на ю-туб сначала кидала материал. Я в компьютерах не разбираюсь и телефон даже иногда забываю, как включается. Он мне говорит, что ему не подходит ю-туб: очень долго скачивать. Пишет мне: «Я в машине сижу и вот это скачиваю. Архивируй и кидай на диск». Думаю: Боже, как это делать. Но сама говорю: хорошо, я разберусь. Проходит месяц, он спрашивает - ты разобралась с архивацией? Говорю: я сегодня сяду, разберусь. Проходит три дня, сообщение от Шария: видео не принимается пока не разберешься. И я начинаю в панике разбираться. Часа за два разобралась, скинула ему, он такой: «О, Аллилуйя!»
Однажды Ирина делала на площади Донецка опрос молодых людей, в основном из числа недавно вернувшихся: что они знают об идущей войне, что думают.
Ответы были не самые впечатляющие: знали мало и думали про это не очень.
Молодёжи тут всякой хватает. Одни сидели в подвалах два года, а другие приехали две недели назад. И таких очень много. И что у них на уме - не то чтоб большой вопрос - а просто ничего особенного там нет.
Но в Донецке на этот ролик многие всерьёз обиделись, особенно журналисты.
Мол, мы тебя, Ирина, тут приютили, а ты нам тут такое подкладываешь.
Понятное дело, и сама Ирина была огорчена, а Шарий, говорят, вообще слёг от удивления и некоторого, знаете, разочарования.
…На днях я подошёл к Захарченко, сказал, что надо как-то поговорить: и с местными журналистами, и с Ириной. Разъяснить ситуацию.
Ты сам этот ролик видел? - спросил Захарченко.
Не имеет значения, - сказал я. - Если убрать отсюда Ирину, у коллективного Майдана, СБУ и лично Порошенко будет праздник. Они все мечтают рассорить Шария и Донецк.
Захарченко помолчал.
На другой день говорит:
Хочу с Ириной встретиться. Надо поговорить.
Ополченцы не любят рассказывать о себе, не дают интервью, - признаётся мне Ирина. - Особенно они не любят журналистов из Голландии там, или Германии. Очень жёстко с ними, показали экскурсию и всё: «Вон отсюда, сели и уехали», - именно так и говорят.
Помню, Мёд - такой позывной, у него «Утёс» стоял, и немцы туда приехали. Я с этими немцами хожу, меня ополченцы уже хорошо знают. Мёд подходит к немцу и говорит: «Иди сюда». Берёт так, вытирает пыль и говорит: «1943-й год выпуска. Вот с это херни мой дед твоего еб*шил». А переводчик стоит и молчит. Мёд говорит: «Переводи». Тот молчит. Мёд так автомат одной рукой профессионально сбрасывает с плеча и наводит: «Я что сказал?» Потом идём, там ступеньки вниз, и Мёд говорит: «Сюда нельзя, стоять! - только так он с немцами разговаривал. - Там наши „глаза“. Глаза, уё*ывайте оттуда». Слышу: шур, шур, шур, наблюдатель ушёл. «Всё, глаза ушли, идём».
А потом Мёд немцам говорит: «Почему ваша Меркель такая бл*дь?» А они молчат, они его уже боялись. Я смеюсь, прошу: прекрати. А он опять так автомат одной рукой так ф-ф-фух: «Я что-то не понял, переводи».
В общем пообщался с ними и говорит: «Всё, вы мне надоели, нахер отсюда». Они уходят, немец мне показывает, мол, пошли в автобус. Я говорю: не, не, не, я остаюсь. Он так посмотрел на меня… Ну, сложно описать, как.
Этот Мёд и говорит: «Ира как человек приезжает сюда и привозит нам торбы покушать и покурить, а вы как немцы - с пустыми руками».
Ополченцы мне много рассказали вещей, которые в принципе нужно чуть-чуть притормозить. Они не всегда осознают масштаба аудитории Шария. Что-то ляпнут, а им таких трамублей на следующий день выпишут.
Удачные вещи часто получаются совсем случайно. - признаётся Ирина.
…Снимали Горловку. Там такая дырка была в стене огромная. Прямое попадание 220-м. Штуки три было этих попадания. Я выхожу, люди стоят, смотрят на нас, а в сторонке - какой-то дед. Почему я обратила на него внимание? Я же с Одессы, а он - чисто одесский еврей: шортики выше пупка, ремешочек. Я говорю: ничего себе, еврей с Привоза. Мне стало интересно, что это за дед. Подошла заговорила с ним, слышу акцент - ага, угадала, и он говорит: «Я друг Путина». А нам уже уезжать нужно. Я ему: приеду через два дня, хорошо? Отвечает: хорошо.
И я его записала. Получилось офигенское интервью. Это человек, который реально вырос с Путиным. И Путин был у него шафером на свадьбе!
Толя говорит, как ты его нашла? Абсолютно случайно.
Дед мне сразу говорит: «Я хочу гонорар». Спрашиваю: сколько, 200 гривен хватит? Говорит: «Хватит. И у меня будет важное условие: чтобы в кадр вошёл мой кот. Снимите моего кота».
Что делать, я снимаю, дед вышел в другую комнату, а я Толе шепчу в камеру: «Толя, извини, но мне нужно снять кота».
Толя говорит потом: «Я рыдал».
Украинских военных ты тоже видела. Что это за люди?
Я застала интересный период… Вот Карловка, мост идёт бетонный, а дальше уже Пески. Следом аэропорт как на ладони. На мосту в Карловке стояли ещё даже не вэсэушники, а те, которых призвали первыми - кого на 10, кого на 40 дней, - и тут их - хоп! - и на три месяца на передок. Как они могли необкатанных гражданских людей кинуть на передок?
Кто-то из них был учителем, кто-то мелкий бизнес имел - такие люди там стояли. Хорошие пацаны, на самом деле.
От моста до штаба там был такой поворот, где нужно было успеть повернуть в Пески, потому что дальше уже блокпост ДНР стоял. Мы когда поехали в Пески, нам сказали: «Не забудьте повернуть - дальше ДНР, они стрелять начнут». А для меня ДНР - это свои. Я не боялась. Генку, водителя, трусило, а я как-то спокойно. Я тогда ещё не понимала, что такое война. И мы, в общем, забыли про поворотик, проехали его - и едем на ДНР. По нам начинают стрелять. Генка на месте разворачивается, и мы обратно.
Снова приезжаем к мосту. А украинские солдаты только кушать сели, чай пить. И ругаются: «Как же вы проехали!» И один из Кировограда говорит: «Я поеду с ними, покажу дорогу». Ему говорят: «Ты что, больной? Тебе что, жить надоело?» Но этот солдат сел с нами, вот так поставил автомат и нас сопроводил.
Генке сказали: «Едь на большой скорости, потому что простреливают». Генка выжал всё, что можно из машины выжать, - а там дом стоял в саже, почти не видный - и мы чуть в него не влепились. А Генка очень профессиональный водитель. Он как-то вывернул руль, спас нас.
И так этот солдат доставил нас в штаб, рискуя собой.
Хорошие такие мальчики были тогда… не злые. Один с красными глазами с Запорожья - заплаканный какой-то был. Он говорит: «Я тут не высыпаюсь, я домой хочу. Что они упёрлись в этот Донбасс? Ну не хотят они с нами. Отдали бы этот Донбасс». При всех говорил, не тушуясь. Тогда ещё не боялись.
Из донецкого аэропорта забирали мы пленных. - продолжает Ирина в другой раз, - Отмороженных, без ног, без рук. Когда уже всё закончилось. Я к ним ходила, с ними разговаривала. Я им кушать носила. Зубные щётки, пасты. Причём одну сумку несла на третий этаж, нашим пацанам, а вторую наверх - «киборгам». Медсёстры говорят: «Они нас убивают, а вы их кормите». Я говорю: «Они нас убивают, а вы их лечите». Мы же не фашисты.
И «киборги» мне божились, клялись, что не будут больше воевать. Я с ними много разговаривала на разные темы. Там был один мальчик - Остап, без ноги, отрезали под корень - 20 лет ему. Я его на себе несла в «скорую» на обмен. Я ему говорю: если ты будешь говорить гадости на ДНР и на людей, что тебя спасли, - прокляну. Но он молодец, дал интервью, и очень хорошее. Его спросили: что вы пожелали бы украинским солдатам, которые идут на войну? А он две секунды молчал и ответил: «Ничого не пожелаю, чтоб не буты ворогом». То есть Остапчик молодец.
А был другой, тоже с ампутацией, тоже божился, что воевать не придёт, а я смотрю: одел протез и опять на передке.
В твиттере я с матами ему написала: сука такая, ты же обещал. Я знала, что он будет читать. А он ответил: «Ирина, у вас на одной руке ангел сидит, а другой рукой вы чёрта гладите».
Может, это он себя имел в виду во втором случае…
- …И ещё был один. Я с ним один на один разговаривала. Он мне рассказывает, что ни в кого не стрелял, а я ему верю. Ну не может же человек врать. И я говорю офицеру из контрразведки: «Такой хороший мальчик, он будет рыбу ловить, землю пахать. Включите его в обмен». А он мне: «Ира, ты что, офигела, это спецназ. Знаешь, сколько он наших положил?» Вот так вот…
А другой был «киборг» в возрасте: зло-о-обный. Если другие говорят: принесите то-то, то-то, - этот рычит: «Не надо мне ничего». И не разговаривает. Даже искры из глаз летят. Кидался на меня, как собака!
Две тысячи человек в Одессу заранее приехали из Киева - Майдан опустел в этот день. С 1-го на 3-е они в Одессе сидели четыре дня. Для них были проплачены гостиницы у моря, такие задрипанные турбазы. Их специально завозили, и они ждали. Это всё оплачивалось. Если бы не было 2 мая, было бы что-то другое. Это массовое убийство должно было произойти, чтобы люди испугались. И люди очень сильно испугались.
У меня есть одна знакомая девушка, Наташа, она уже уехала в Россию - не смогла жить после этого в Одессе. В тот день, 2 мая, она сразу увидела всё по телевизору и прибежала посмотреть. Когда эта толпа двухтысячная окружила антимайдановцев и заталкивала их в Дом профсоюзов, они были уверены, что спрячутся там: будут бросаться камнями и дожидаться милиции. Никто же не знал, что так закончится.
Муж Наташи преподавал в военном училище, подполковник, а сыновья у них - в «Альфе». Наташа поэтому говорит: я спецов узнаю по повороту головы.
И вот все побежали в здание - там темно, кабинеты закрыты, выходной. Основная часть убежала в одну сторону, Наташа пошла в другую, с камнем в руке. И увидела спецов. Это же сталинское здание, окна высокие, и в оконных проёмах, так, чтобы их не видно было, стояли спецы.
Возле них было несколько ящиков с коктейлями Молотова. Она рассказывал мне потом: «У меня сразу одна мысль - будут убивать».
Наташа догадалась включить дурочку и спросила: «Мальчики, здесь камни выбрасывать?». Они кивнули. И говорит им: мол, вам ещё принести? Они в ответ снова кивают.
И она выскочила. Стала бегать по коридору - искать выход. Второй этаж, очень высокие потолки. Одно окно открылось, она в него выглянула - искала глазами мужа.
А что такое спец: муж учёл даже то, что все будут в коричневой защитной форме, и поэтому одел ярко-синюю футболку, чтобы выделяться. И бегал под окнами.
Она его, наконец, увидела, он кричит ей - прыгай! Она боится высоты, но прыгнула. Он поймал её, повредил себе позвоночник. И вокруг сразу образовалась толпа подростков - малышей этих карандашей со свастиками - и в намордниках, и без масок, с битами. Они начали их окружать, чтобы добить. Одна девушка, очень хрупкая, - Наталья её видела потом на видео - крикнула: «Убыйтэ еи!» А Наталья говорит: «За что меня убивать?» А эта девушка: «Убыйтэ еи, она убыла наших побратымив».
Они начали их окружать. Муж её закрывает собой. Минута ещё - и всё. Тут появился какой-то видный и влиятельный мужик в кепке, видно, знавший её мужа, и спрашивает его, сможет ли он сейчас быстро увести свою жену. «Да, смогу».
Так их спасли.
Муж Наташин начал тянуть её по парку, она тормозила ногами, кричала: «Не убивайте их! Они будут их убивать!» Она всё уже поняла.
Я пришла туда через месяц после событий. Здание днём охраняли 60 милиционеров, а ночью - эти их нацисты в чёрной форме.
Днём, когда стояла милиция, я смогла попасть в здание.
Со мной была Наташа и один местный полковник. Он рассказывал, как после всего людей оттуда выносил. Он мне показал, где сколько людей лежало. Говорит: в этом туалете - там дырка - и в ней девочка пряталась, лет пятнадцати. Её туда загнали, она полностью разбила череп. Полковник показывал: «Я её вот так выносил, она как пушинка была…» Вот здесь столько-то лежало, вот здесь столько-то.
Недели две я допрашивала свидетелей, которые ни с кем не разговаривали. Ни с милицией, ни с кем. А мне всё рассказывали. Я им дала слово, что не буду их записывать. Что всё буду запоминать.
Итак, что сделали те, кто устроил эту бойню. Там был взрыв хлора. Всю штукатурку в сталинском здании содрать нереально. Так они перфораторами сбивали штукатурку в зоне взрыва хлора: это, типа, ремонт. В зоне лестничного марша сбивали штукатурку «с мясом». Сбивали и вывозили, чтобы даже следа не осталось.
Следа того, что применяли химию?
Да. На видео есть кадры, когда ломятся эти малолетки в шортах с битами, а один человек кричит: «Пять минут не входить». Они ждали, пока газ выйдет.
Я спросила у одного человека из СБУ: каким газом их травили? Он: тык, мык. Я говорю - пожалуйста, скажи. Он говорит: хлор.
Когда кинули этот хлор, люди упали. После смерти спецы их переворачивали. Они все перевёрнутые, посмотрите на фото. Редко кто лежит лицом вниз - один или два. И у всех изо рта и носом пошла типа каша манная. Это специфическое воздействие хлора. Спецы их поливали коктейлем Молотова и поджигали, чтобы по фото нельзя было определить, что травили хлором. Подчищали последствия.
По первому образованию я архитектор. Я искала план Дома профсоюзов. Это же самое большое бомбоубежище в Одессе. Там есть ход, который ведёт к зданию СБУ, по катакомбам. Поэтому спецы могли уйти по катакомбам и зайти по ним же.
Когда я ходила и снимала всё, меня поразил тот факт, что все входы в подвал даже с пожарных лестниц и пожарных ходов заварены вот таким слоем железа, а сверху решетка, арматура - наглухо! Я думала: всё равно где-то отковырну, пролезу - нет!
Они после случившегося всё заварили?
Да, все ходы в подвал. Планы эвакуации во время пожара есть, но ходы заварены и подвала как бы и нету. Даже вход в лифт заварен, шахты заварены: к подвалу не подойти. И есть кадры, когда зашли журналисты 3 мая снимают и говорят: «А что это здесь замуровано? Капает цемент! Ну толкни же ты ногой, это же подвал».
Там были убиты люди ещё и в подвале, и они в списки не входят. Оттуда был звонок одного парня: «Мама, нас сейчас будут убивать».
Значит, там было больше погибших?
Конечно! Более 150 точно, до трёхсот. Тем более что многие прятались, многие семьи боялись - и хоронили тихо, как будто их покойных там не было. Очень много пострадавших было, которые умерли потом от ран. Наконец, очень часто врачи в больницах говорили: «Называйте чужие фамилии и адреса, потому что вам будут мстить». И вот они писали - Вася Васин, ни документов, ничего - зашили голову, травма черепа. Но до сих пор некоторые люди в больницах лежат с переломом позвоночника.
Я общалась с мальчиком 16 лет. Когда начались эти события, кто-то из взрослых прогнал его домой: прячься, убегай. Он успел убежать. И когда уже начался этот кошмар, он обошёл с тыла Дом профсоюзов и видел, как люди обожжённые прыгают вниз. Там же третий этаж - это как пятый по нашему метражу. И мальчик этот сидел у меня на кухне и его так трясло, сильнее и сильнее, я уже думала, у него эпилепсия какая-то. Я дотянула до последнего, чтобы дать ему воды потом, чтобы он успел всё это высказать. И он говорил: «Тетя Ира, они прыгали из окон, они так кричали! А их битами добивали. Я слышал, как у них кости хрустят. Это так страшно! Так страшно! Я убежал». Там рядом школа олимпийского резерва, он перепрыгнул забор, спрятался в закоулочек и засел там в углу. И говорит: «Тетя Ира, я всю ночь там сидел, а они пели песни и искали, чтобы добивать людей».
Потом, уже в Песках, когда я была в украинской армии, встретила там человека - такого здорового, бритоголового. Он говорит: «А ты меня не узнаёшь? Я на всех пабликах был, на всех сайтах». И признался мне: «Мы же 2 мая срезали с приехавших пожарных машин шланги». Когда пожарники подъехали - их тоже били. Захватывали машины и не давали тушить. И этот бритоголовый был там. А нашёлся на фронте - он сразу же уехал из Одессы. Сейчас он в батальоне «Донбасс» - позывной Слон.
Там столько фактов, которые ещё не известны! Страшная тема! Спецы знают, чем травили, сколько с огнестрелом, сколько забито насмерть, сколько изуродовано.
Допустим, был такой Генка Кушнарев - я нашла место его гибели. Там его каска лежала, его бита - ну, верней, дрючок от лопаты. За ним стояли несколько женщин, а он дрался как лев, до последнего. В него сначала выстрелили, а потом человек шесть-семь начали его бить. Они все кости ему сломали, месиво сделали из человека.
В Одессе такая трагедия произошла, что когда люди узнают, когда всё это всплывет, когда всё это будет рассказано - мир просто вздрогнет.
Отчего-то я не думаю, что миру это будет рассказано. И точно не верю, что мир рухнет. Столько всего он уже видел, этот мир, и даже не вздрогнул.
Но в Донбассе - смотри хоть каждый день.
Мы едем с Ириной - навестить самых одиноких бабушек, в Октябрьский.
По дороге Ирина, как заправский экскурсовод, рассказывает:
Это местная школа. Здесь бомбили с самолётов. Когда были бомбёжки, все дети собирались в подвале и молились. Летали украинские вертолёты, солдаты сидели вниз ногами и с автоматов стреляли. Местные дети всё это видели. Они вам расскажут, где кого убило, кого и когда ранило. Что делать, когда прилетает. Они разбираются в калибрах. Конечно, часть детей уехали с родителями, но большая часть местных здесь была. Спрашиваю у них: поменяла ли война ваше отношение к школе, к родителям. Они говорят: «Конечно, раньше мы не ценили счастья просто ходить в школу. Я сейчас больше слушаюсь маму. У неё и так тонна нервов уходит. Ещё не хватало, чтобы я ей проблемы создавал». Ну, они как мужики взрослые. Им 10–12 лет, а они как дядьки разговаривают. Не покемоны - те, что в барах сидят. Эти вырастут настоящими, серьёзными. Они жизнь ценят, они всё понимают.
Ирина молчит, эмоций её не разглядеть. Хотя таксисты, которые с ней иногда ездят вместо её постоянного водителя, могут и разрыдаться: наслушаются историй от бабушек или от детей и плачут. И ведь вроде сами донецкие, повидали кое-что.
Октябрьский - по виду посёлок как посёлок, примыкает к городу, сельская зона; но чем ближе к передовой, тем сильней разрушения.
Те дома, что стоят на краешке посёлка, - побитые все.
Сюда попало в крышу. Здесь снесло забор. Здесь взорвалось возле окна. Здесь вынесло ворота.
Почти в каждом доме живёт немолодая семья или одинокая бабушка - им всем некуда выехать, некуда бежать. Да я и не думаю, что они уехали бы.
Так и живут: под ежевечерний, еженощный, ежеутренний грохот, когда каждую минуту может упасть ровно к ним, на них.
Мы накупили им еды, привезли денег.
Кожный дэнь бьють, - рассказывает нам бабушка в первом доме, - кожный дэнь оцэ как вечир настае часов в восемь в полдевятого - и бах, и бах, и бах. И оце одна ночь, потом втора. И ночь в воскресенье. И в понедельник или во вторник. И в среду до 2-х часов не утихали. В 2 часа утихли. Я выползла, подывылася кругом…
И во втором доме нам бабушка рассказывает то же самое.
И в третьем. И в четвёртом.
В четвёртом бабушке - 98 лет. Очень смешно шутит: рассказала, как захотела взять кредит, а ей не дали. Я бы расхохотался, если б мне не хотелось заплакать.
И все они говорят на украинском или на суржике: не знаю, чем он отличается.
А Ирина легко переходит в разговоре с ними на украинский.
Они все её знают, помнят, зовут «доченькой», обнимают и радуются ей несказанно.
По кому стреляют? Скажите мне, дорогие украинские читатели. По москалям, кацапам и сепаратистам?
Это же бабушки! Ваши украинские старухи!
(Я знаю, что сейчас ответят эти замайданные упрямцы непобедимые. Они ответят: если б Стрелков не пришёл… Они всегда так отвечают. Хотя сами наизусть знают ответ: а если б не Майдан, если б не факельные шествия, а если б не стрельба в Харькове и беспредел в Мариуполе, а если б не 2 мая в Одессе… Но им хоть кол на голове теши.
Вопрос всё равно в другом: чего считаться-то? Ярош, Стрелков, Турчинов - чего считаться? - в бабушек-то сейчас стреляют, сегодня: «Кожный дэнь оцэ как вечир настае часов в восемь в полдевятого - и бах, и бах, и бах. И оце одна ночь, потом втора. И ночь в воскресенье. И в понедельник или во вторник».
Если вечно так и будете кивать на того, кто якобы начал, - голова окривеет).
…Начало смурнеть, и бабушки нас погнали прочь: сейчас начнуть бомбить, уезжайте.
Мы поехали.
А они там остались.
Сидят с почерневшими лицами, с почерневшими руками, в своих платочках возле домов и ждут. Никуда уже не прячутся.
Мы немного помолчали с Ириной, но через минуту она уже говорит:
А вот тут я у одной знакомой женщины ночевала. Обстрелы каждую ночь - приехала снимать. Джинсы, куртку, берцы надела. Она мне говорит вечером: переодевайся в ночнушку. А там стрельба такая, какой там спать! Я вот так под утро в берцах и обнаружила себя задремавшей на диване. А тут - «ночнушка, рубашка»… Думаю, сейчас ещё какое-нибудь попадание будет рядом, а я в этом наряде непонятном. Скажут: «Чего это Ира босиком в рубашке лежит. Чего она там делала?»
И смеётся заливисто. Ей смешно.
Ну и я улыбнулся.
А чего ещё делать?
Остаётся только улыбаться: силе и жизнелюбию женщины.
Женщина победит всё.